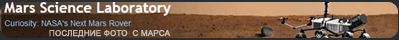Просмотров: 6718

Оглядываясь на прошлое человечества, каждый из нас сравнивает себя с прежними поколениями. И волей-неволей приходит к выводу: наши современники гораздо лучше приспособлены к существованию в сложном мире, гораздо больше знают о нем и имеют куда больше возможностей, чем те, кто жил, скажем, пару столетий назад.
Неоспоримым доказательством собственной эволюции человечеству служит эволюция сделанных им изобретений. Однако наслаждаться ими мы не смогли бы, если бы не взяли на вооружение опыт, накопленный прежними поколениями. И более того — глядя на них, мы не можем не узнать в увиденном самих себя.
Три миллиона лет назад (а по мнению некоторых ученых, и еще раньше, около 3,4 миллиона лет назад) предок человека изобрел самое первое, очень примитивное орудие труда — и отправил все человечество в бесконечное путешествие по дороге прогресса. Плоды, сорванные на этом пути, — не только целый ворох полезных изобретений, но и нечто не совсем материальное. Знания, опыт — то, что одно поколение передает следующему, облегчая его задачу — творить новое, глубже и тщательнее постигать окружающий мир и искать свое место в нем. Каждое поколение стало для своих потомков трудолюбивым собирателем сведений. Каждое — возводило новую, все более высокую ступень зиккурата всеобщего знания, чтобы следующее поколение смогло подняться еще выше. А это значит, что история открытий непредставима без истории образования. Путь к любому открытию или изобретению начинается там, где человек систематически получает знания — в стенах всевозможных образовательных учреждений.
Теперь, когда индустриальную эпоху в истории европейской цивилизации сменила эпоха строительства информационного общества, знания стали главным продуктом производства. Похоже, Фрэнсис Бэкон, еще несколько сот лет назад провозгласивший, что «знание само по себе — сила», наконец оказался услышан и правильно понят.
Информация ценится теперь превыше всего — и сама по себе, в чистом виде. В этом легко убедиться: отремонтировать жесткий диск или даже просто спасти хранящуюся на нем информацию стоит дороже, чем приобрести новый. Хотя никаких топ-секретов или новаторских технологических разработок на этих дисках обычно не встречается — наши современники готовы выкладывать немаленькие деньги за то, чтобы сохранить данные, ценя в первую очередь их уникальность.
Однако конвейер передачи информации был запущен задолго до этого — и даже задолго до того, как человечество вступило в историческую эпоху (обычно за точку ее начала берут момент появления первых письменных памятников). Да что там говорить — это случилось еще до того, как эволюция высших приматов завершилась появлением вида Homo sapiens sapiens: первые галечные орудия, по всей видимости, были созданы еще австралопитеками. А значит, и они, не владевшие даже речью, уже умели — вероятно, собственным примером — передавать знания об изготовлении и использовании предметов своим детям.
Постепенно к этим знаниям добавились другие, более сложные — не только о создании более совершенных орудий, но и о мире вообще. О животных, о смене времен года, о жизни прежних поколений — и о чем-то таком, чего человек не может увидеть, но очень хочет постичь: о божествах, духах, демонах, покровителях и врагах. Едва открыв для себя язык, человечество принялось творить миф. Когда именно это произошло, сказать сложно — ни лингвистика, ни историческая антропология, ни другие науки не в состоянии назвать даже приблизительную дату. Не знают современные ученые и дату рождения первого языка — и даже то, об одном ли языке идет речь. Одни утверждают, что у всех языков мира имеется общий предок, прамировой язык. Другие предполагают, что изобрести систему речи додумались независимо друг от друга в разных «очагах прогресса». Чаще рождение и мифа, и языка связывают со средним палеолитом (300–30 тысяч лет назад). Американский антрополог Майкл Корбелис говорит: ископаемые останки свидетельствуют, что анатомическими органами, необходимыми для того, чтобы разговаривать, человечество обзавелось по крайней мере 250 тысяч лет назад. Но тут же выдвигает еще более смелое уточнение: а может, и все 500 тысяч. Антропологические данные свидетельствуют также о том, что 250 тысяч лет назад у предков человека наблюдалась и мозговая асимметрия — а это бесспорный признак владения языком. Где-то в это же время люди занялись и мифотворчеством.
Современные дети, читая сборники мифов разной степени древности в обработке писателей, воспринимают их как сказки. Сказка, конечно, может кое-чему научить — но больше развлекает. Для первобытных людей миф имел совсем другое значение. Долгие века и даже тысячелетия миф был и школой, и наукой, и религией, и искусством, и даже примитивным развлечением — хотя в увеселениях древний человек не слишком нуждался, предпочитая не отделять приятное от полезного. У племени маори, коренных обитателей Новой Зеландии, еще совсем недавно имелись «дома знаний» — своеобразные школы, где жрецы и просто мудрые, много видавшие на своем веку старики передавали молодежи племенной опыт, знакомили их с преданиями, традициями и обрядами. Обучение могло растянуться на несколько лет — и порой даже имело своего рода специализацию. В этой примитивной школе существовали медицинский, теологический и мореходный «факультеты», на которых преподавали люди, хорошо знающие свое дело. Вполне вероятно, что и у наших далеких предков было нечто подобное — первобытная привычка к образованию на основе мифа.
Миф являлся единственной формой знания — и единственным же средством его передачи. Все, что существовало в этом древнейшем мире, — это миф, полезные растения, животные, на которых можно охотиться и которых следует остерегаться, и орудия из камня. Более того, миф повествовал и о том, откуда все они взялись, — и потому можно смело сказать: в том мире не было ничего, кроме мифа. Любой из обитателей каменного века мог лишиться всех своих орудий и сразу же изготовить новые — но не смог бы выжить, не имея представлений о мире. Значит, именно миф (и заключенная в нем информация) был самым значимым продуктом этого общества — и в этом смысле наши древнейшие предки похожи на нас, не так давно научившихся ценить знание само по себе.
Не случайно о феномене мифа как универсальной системе постижения мира заговорили постструктуралисты — то поколение философов, благодаря которому цивилизация в середине XX века и шагнула в эпоху глобального торжества сверхценности информации. Изучать мифы древних культур начали еще в середине позапрошлого столетия, но разговор об универсальности мифа, о том, что миф — это сложный язык, обладающий и содержанием, и формой, и способностью описать любое явление, завел Ролан Барт, один из столпов постструктурализма.
ВО ВЛАСТИ ЗНАНИЯ
Прогресс и познание, образование и наука — чем глубже мы ныряем в зыбкую субстанцию, носящую имя человеческой истории, тем труднее нам отделить их друг от друга. Выйдя из общего мифологического чрева, они еще долго шли рука об руку, ведя за собой и религию — еще одну наследницу мифов. В первых исторических обществах, сложившихся на Древнем Востоке, те, кто имел особое отношение к религии — жрецы, — имели и особый доступ к знаниям. Они были и первыми учеными, и первыми литераторами. Первым неанонимным автором в истории стала принцесса Энхедуанна, родившаяся около 2285 года до н. э. Дочь аккадского царя Саргона I, она сделалась верховной жрицей богини Луны — и в этом качестве сочинила несколько гимнов.
Жрецы первыми стали и хозяевами письменности — системы, созданной для того, чтобы знания лучше сохранялись в процессе передачи их следующим поколениям. Это говорит о том, что знаний накопилось уже столько, что в одной, пусть и самой умной, голове поместиться они уже не могли. Письменность открыла для познания новые горизонты. Например, если бы шумерские астрономы не имели возможности записывать результаты своих наблюдений и сравнивать их с результатами, зафиксированными несколько лет и даже веков назад, вряд ли они смогли бы проводить точнейшие расчеты продолжительности года или сароса — цикла солнечных и лунных затмений.
Знания в Древнем мире были не только наукой — они были главным ресурсом власти. Вероятно, мечтавшие о «просвещенных государях» будущие поколения ностальгировали по этому времени — эпохе, когда знания были неотделимы от власти. В любом учебнике истории Древнего мира найдутся красноречивые сведения о том, как жрецы держали в подчинении огромные массы простых сельскохозяйственных тружеников, а порой манипулировали и правителями. Им тоже было известно: знание — сила.
Обладавшее огромной мощью, древнее знание, разумеется, было сакральным — а значит, доступным далеко не каждому. В обществах каменного века, не знавших ни каст, ни сословий, ни классов, носителем мифа был каждый — а в социуме, познавшем неравенство, информация оказалась в руках тех, кто встал на вершине социальной пирамиды. Находящееся под строгой охраной, знание сформировало специальные механизмы передачи себя. Так родилась первая система образования — процесса целенаправленной передачи знаний, как определяют его книги по педагогике, — и это образование было, как бы мы сегодня сказали, элитным.
Впрочем, отдельные крупицы знания просыпались вниз с сияющей социальной вершины. А те, кто получал к нему хотя бы «урезанный» доступ, мгновенно представали в лучах власти. «И вот причалил к берегу писец, который будет учитывать урожай, — сообщает один из древнеегипетских текстов. — Сопровождающие его сборщики налогов вооружены палками. Они говорят: давай зерно, а его нет. Бьют они земледельца яростно. Писец — он руководит всеми, и не обложена налогами его работа». О том, что писцы не платят налоги, избавлены от обязательных работ и получают большое количество зерна, свидетельствуют и шумерские глиняные таблички. Мы видим, что древние писцы — это не мальчики на побегушках, а привилегированные чиновники. А потому неудивительно, что многие отцы мечтали отдать своих сыновей учиться грамоте — пожалуй, это был единственный социальный лифт, предусмотренный жестко разделенным обществом Древнего Востока. В некоторых случаях умение читать и писать могло стать и ключом к свободе — если этот ключ оказывался в руках раба.
За три тысячи лет до нашей эры школа на Древнем Востоке обрела черты настоящей образовательной институции. Экономика потребовала более строгого учета, а значит, и большего количества писцов. Произошло это в Месопотамии — и уже очень скоро школы, изначально появившиеся при семьях писцов, были в каждом городе. Они назывались «эддуба», что значит «дом табличек» — тех самых глиняных «листов», на которых шумеры писали свои клинописные документы.
В начале I тысячелетия до н. э. в школах Междуречья начали применяться деревянные дощечки, покрытые слоем воска. После того как наставник проверял правильность выполнения упражнения, ученик специальной лопаткой соскабливал верхний слой воска, наливал новый, ждал, пока тот застынет, — и мог дальше продвигаться по пути учености.
Эддубы, конечно, были демократичнее, чем храмовое обучение жрецов, — но учеба в них была платной, а цена — довольно высокой, различаясь к тому же в зависимости от авторитета конкретных преподавателей. Кроме оплаты по «официальному прейскуранту» родители учеников также регулярно делали учителю подношения — без них он порой и вовсе игнорировал своих подопечных.
Постепенно из прикладных школ, готовящих новобранцев для армии древневосточных чиновников, эддубы превратились в настоящие центры науки и просвещения, обзавелись грандиозными книгохранилищами — именно так во II тысячелетии до н. э. возникла Ниппурская библиотека, а в I тысячелетии до н. э. — Ниневийская. Правда, для большинства детей Междуречья (как и всего Древнего Востока) школьное образование было недоступно — а «школой жизни» для них становилась собственная семья. «Кодекс царя Хаммурапи», самый известный памятник древневосточной письменности, гласит: за подготовку сыновей ко взрослой жизни отвечают отцы — и именно они обязаны передать детям свое ремесло.
СИНОНИМ СВОБОДЫ
Наука для современной цивилизации является главным критерием истины. Не случайно современные соцопросы гласят, что степень доверия к ученым гораздо выше, чем к журналистам, священникам и селебрити вместе взятым. Наука — нечто, противопоставляемое другим системам знания, системам религий и традиций. Их презрительно называют мифами — и переросшее их человечество всеми силами стремится от них избавиться. Но и сама наука когда-то вышла из мифа.
Наука — это человеческая деятельность, направленная на выработку и теоретическую систематизацию объективных знаний о действительности, гласит энциклопедическое определение. Иными словами, наука — это нечто отделенное от практики, знание, добываемое ради самого знания. А значит, таинство рождения науки случилось не на Древнем Востоке — ведь даже египтян, портреты которых можно встретить в современных школьных учебниках по точным наукам, интересовало решение лишь насущных вопросов (так, геометрию породило земледелие), а потому их вполне удовлетворяли приблизительные ответы.
Истоки современного научного знания принято искать на вершинах культуры Древней Греции. Именно в умелых руках греков всеобъемлющее знание о природе разделилось на научные дисциплины — математику, астрономию, философию, — которых к началу нашей эры насчитывалось уже около двух десятков. Греция знала научные школы и их принципиальные споры между собой, уважение к мыслителям и пиетет перед ученой преемственностью. Единственное, чего у греков не было, — это понятия о научном эксперименте. Античные ученые хорошо умели наблюдать и вычислять: Эратосфен определил точный диаметр Земли, Птолемей — весьма точное расстояние от Земли до Луны. Греки сделали немало научных открытий, но привычки проверять результаты опытным путем у них не было. Пожалуй, единственным, кто основывался на экспериментальном методе, был знаменитый любитель водных процедур Архимед — но и у него, как мы знаем, это вышло по воле случая.
Греческая система миропонимания также родилась из мифологии. Уйдя достаточно далеко от традиционного мифологического сознания, греки сохраняли уважение к собственной перенаселенной мифологической вселенной. Зевс, Афина или Гера жили в Древней Греции (точнее, конечно, в сознании ее обитателей) бок о бок с Демокритом, Аристотелем или Сафо — деятелями, с которыми, пожалуй, и нам было бы нетрудно найти общий язык. Довольно близким к современному оказывается и греческое понимание образования.
Из Древней Греции пришло и слово «педагог» — в буквальном переводе «детоводитель». Правда, для греков оно вовсе не было синонимом учителя, а обозначало особого раба, приставленного следить за ребенком. Педагогика же как наука родилась благодаря все тому же сэру Фрэнсису Бэкону, а первые педагогические труды принадлежат перу чешского мыслителя XVI–XVII столетий Яна Амоса Коменского, который также является автором дожившей до наших дней классно-урочной системы.
Классики педагогического знания — такие как Антон Макаренко или Мария Монтессори — утверждали, что целью образования должна быть не только передача знаний, но и воспитание личности. С тем, что воспитание — важнейшая задача, согласились бы и древние греки. Алексей Лосев, один из величайших исследователей греческой ментальности, говорил о том, что ключевым для греческого образования было понятие калокагатии — «добра-и-красоты» в одном, этакого нравственного кентавра, который должен был поселиться в каждом гражданине. Строго говоря, его взращивание и было главной целью греческого воспитания. Греки полагали, что разделять физическое, умственное и нравственное воспитание не стоит: то, что всем сторонам процесса уделялось равное внимание, известно широко — как и то, что в Элладе грамматика и арифметика ходили рука об руку с гимнастикой. Порой воспитательный синкретизм принимал неожиданные формы. Например, Платон в «Законах» настаивал на том, что чувство справедливости, основная социальная добродетель идеального гражданина полиса, наилучшим образом формируется в хороводе — коллективном танце.
Сегодня считается, что всеобщее образование — завоевание XX столетия. Но и древние греки были уверены, что образование в их полисах всеобщее, а в V веке до н. э. афиняне радовались тому, что в их городе-государстве не осталось ни одного неграмотного человека. И все же о всеобщем образовании в Греции говорить не стоит: под выражением «все люди» греки разумели лишь всех свободных мужчин — ни рабы, ни женщины не учитывались в их статистике.
Гречанки почти все время проводили за стенами женской половины дома, а их попытки принять участие в общественной жизни были поводом для смеха мужчин — во всяком случае, комедия Аристофана «Женщины в народном собрании» имела нешуточный успех. Однако греческие девочки из свободных семей все же учились — но далеко не все, и совсем не так, как мальчики. С VII столетия до н. э. в Греции стали появляться женские школы, где девочки-подростки обучались музыке, танцам, пению и поэзии, — но таких школ было совсем немного. Большинство эллинок учились чтению и письму, рукоделию, прядению и ткачеству под руководством матерей и других домашних женщин. Некоторые учились пению и танцам при храмах, посвящая себя тем или иным богиням. Труднее всего гречанкам было даже не получить образование, а применить его в жизни. Французский историк-антиковед Пьер Брюле справедливо отмечает, что самыми образованными и самыми социализированными женщинами в греческом полисе были гетеры.
Если греки отдавали своих сыновей учителям и отпускали их из семьи для обучения, то в Риме, в знатных семьях, представители младшего поколения имели возможность пройти все ступени обучения в домашних условиях. Те же, кто не мог похвастаться знатностью, отдавали детей в публичные школы. Именно римляне создали знакомую всем нам трехступенчатую систему — из начального, среднего и высшего образования. Римское общество уделяло огромное внимание сохранению и воспроизводству своей социальной структуры — и римская система образования работала на это. Доступ к начальному образованию был открыт всем, кроме рабов, даже детям вольноотпущенников — но для них, как, впрочем, и для всех, чья семья не могла похвастаться значительным социальным капиталом, оно оставалось единственным. До того момента, когда приобретенное образование начнет обеспечивать своему обладателю «золотой парашют», было еще далеко. Римская история знает отдельные примеры старательных учеников, сделавших блистательную карьеру на службе римскому государству — или даже получивших императорский титул, но это скорее исключение, чем правило.
Римляне, конечно, были довольно далеки от жителей древнего Междуречья — даже рабовладение для них в конечном счете превратилось в колониализм. Однако и они считали знание атрибутом власти. Образованность в Древнем Риме была социальной привилегией, доступ к которой — наравне с доступом к оружию или материальным ресурсам — становился гарантией превосходства одних над другими. Впрочем, в отличие от реалий Древнего Востока, знание не было синонимом власти, тем более власти абсолютной. Образование для жителей Вечного города было синонимом престижа — а также давало возможность лучше разобраться в том, как устроен мир. И в этом аспекте мы не можем не узнать в римлянах самих себя.
ГОРЕ ОТ УМА
С подозрением смотреть на обладателей хорошего образования и видеть в них врагов — это то, к чему стремилась приучить граждан тоталитарная и безжалостная машина советского государства. От бытовых сценок, в которых можно было услышать презрительные реплики в адрес «интеллигентов в шляпах», до процессов врачей-вредителей и расстрелов военспецов накануне Великой Отечественной войны — это стремление ощущалось повсюду. Сама система образования — вплоть до мельчайшего гуманитарного винтика ее гигантского механизма — была жестко подконтрольна, и остаточное давление этого контроля мы чувствуем до сих пор. А для тех, кто выбивался своей образованностью из общего ряда, всегда были готовы «философский пароход», ссылка или статья за тунеядство. «Горе от ума» — причинно-следственная связь, весьма актуальная для советской действительности. Как, впрочем, и для других тоталитарных государственных систем — фашистской Италии, гитлеровской Германии, Кампучии под властью красных кхмеров (хотя Пол Пот и приобщился к коммунистическим идеям на сорбоннской студенческой скамье, но, придя к власти, распорядился уничтожить всех ученых и вообще образованных людей), Китая времен Культурной революции.
Жертвами репрессий становились и педагоги, не вписывающиеся в прокрустово ложе тоталитарных образовательных систем. Первым на ум приходит имя Януша Корчака — польского учителя, последовавшего за своими воспитанниками в Варшавское гетто, несмотря на то что почитатели его таланта настойчиво предлагали спрятать его на «арийской» стороне. Корчак отказался от помощи, в гетто отдавал все свои силы заботе о детях и их обучению — и в конце концов отправился с ними в Треблинку, где и окончил жизнь в газовой камере вместе с учениками. Репрессивное государство спровоцировало и внезапную смерть вольнолюбца и воспитателя самостоятельных граждан Антона Макаренко.
Самым знаменитым мучеником науки и жертвой господствующей идеологии, чья тяга к знаниям привела своего обладателя к насильственной смерти, принято считать Джордано Бруно. Во всяком случае, из школьного курса мы помним: в 1600 году Бруно взошел на костер на римской площади Кампо деи Фьори, чтобы живьем сгореть — в устах обвинения это называлось «самым милосердным наказанием без пролития крови» — за то, что отстаивал свою точку зрения: Солнце — это звезда, и во Вселенной существуют и другие солнца, а сама она бесконечна. Часто Джордано Бруно провозглашают жертвой средневековых церковников, однако это мало соответствует действительности. Бруно — деятель эпохи Возрождения, на век моложе Леонардо и почти на век — Микеланджело. Да и к сожжению на костре его приговорил светский суд — коллегия губернатора Рима. Правда, обвинение было сформулировано не без участия церкви и лично понтифика Климента VIII. Но ведь и сам Джордано был избранным сыном церкви, монахом-доминиканцем и священником — зато автором доноса на него стало лицо вполне светское, молодой венецианский аристократ Джованни Мочениго, его бывший ученик. Впрочем, и сама католическая церковь в процессе над Бруно исполняла вполне светскую роль — как бы странно это ни звучало. Непредставимую в Средние века с их бесконечными дискуссиями о Боге, мире и их месте друг в друге роль статичного общественного авторитета, именем которого вершатся приговоры, угрожающие государственной стабильности. Впрочем, в случае с Римом папский престол был и верховным органом светской власти, а внутренняя и внешняя политика вращалась вокруг Ватиканского холма.
И все же подозрительностью к образованным людям первыми прославились не строители тоталитарных государств XX столетия — и даже не итальянцы эпохи развитого Ренессанса, во времена которого и случился разгул инквизиции. Первыми были византийцы — жители империи, обретшей свою сияющую славу на осколках римской и греческой цивилизаций. При константинопольском дворе, разумеется, существовали интеллектуалы, хорошо знакомые с античными сочинениями, занимавшиеся наукой и литературным творчеством, и их образованность, конечно, признавалась важной и престижной — но лишь в элитных кругах, где на нее был спрос. Остальное общество относилось к интеллектуальным усилиям придворных ученых равнодушно, если не враждебно. Византийский люд уважал знания лишь из одного источника — монастырей, в которых водилось немало ученых монахов. А вот глава церкви — патриарх — на такое безоговорочное отношение рассчитывать не мог. Возможно, из-за того, что обыкновенно был слишком занят политическими делами, а возможно — и из-за несомненной принадлежности к среде высших интеллектуалов.
В поздневизантийское время, не раньше 1107 года, патриарх возглавил Высшую патриаршую школу — скорее светское учебное заведение, насколько слово «светский» вообще применимо к Средним векам, подобное университету. Впрочем, существовал в столице империи и университет — Пандидактерион, открывшийся в 842 году при деятельном участии знаменитого византийского ученого и архиепископа Льва Математика. Он был воссоздан на месте более раннего учебного заведения, Константинопольского атенея, отсчитывавшего свою историю с 425 года.
Это учебное заведение, основанное в середине V столетия на стыке Европы и Азии, сегодня почитается как самый первый университет. Однако само понятие «университет» неизменно связывается с высшими школами Западной Европы — их возраст несколько меньше, хотя тоже внушает уважение.
ФУНДАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Так когда же был основан первый европейский университет? Ученые-медиевисты, занимающиеся ранним периодом истории высшего образования в Европе, обязательно одернут нас: сама постановка вопроса не слишком корректна. Первые университеты — в Болонье и Париже, в Монпелье и Оксфорде — не были основаны. Скорее следует говорить об их спонтанном возникновении. Причем у каждого из них были на то свои причины.
Пальму первенства стоит отдать университету в итальянской Болонье. В 1988 году это уважаемое заведение с помпой праздновало свое 900-летие — но стоит понимать, что, когда речь идет о столь почтенном возрасте, установить точную дату нелегко. Средневековый «болонский процесс» начался во второй половине XI века, когда в этом городе, провозглашенном свободной коммуной, стали появляться многочисленные школы различных наук — логики, риторики и, наконец, права. Считается, что именно с того момента, когда легендарный болонский правовед Ирнерий открыл свои публичные лекции, и следует отсчитывать историю университета. Однако в действительности эта история началась не с преподавателя — а со студентов. С чужестранцев, прибывших в Болонью обучаться праву и создавших свою корпорацию, чтобы оградить себя от действующего здесь обычая «репрессалий». Обычай заключал в себе весьма своеобразное представление о справедливости: если когда-либо уроженец, например, Бордо задолжал кому-то из болонцев и скрылся не расплатившись, то обманутый кредитор имел право стребовать долг с любого другого бордосца, оказавшегося в Болонье. Чтобы защититься от этой грабительской практики, юноши, жаждущие знаний, образовали свои гильдии — средневековый синоним «юридического лица». Universitas — так назывались эти гильдии, как и любые другие. К началу XIII столетия они оформились в две федерации: Цитрамонтанскую, объединившую итальянцев, и Ультрамонтанскую — для тех, кто прибыл из-за Альп. Федерации приглашали преподавателей, а если городская община вступала в конфликт со студенческой братией, школяры объявляли «сецессию» — и обосновывались в каком-нибудь из близлежащих городков, переманивая с собой и лучших преподавателей, а уладив конфликт, возвращались обратно. Статус университета (в привычном нам значении этого слова) болонским студенческим гильдиям даровал в 1217 году папа Гонорий III — ориентируясь на уже утвердившийся парижский стандарт учебного заведения как консорциума не только студентов, но и их наставников.
Париж к концу XII века был настоящим городом школяров. Университета у них пока не имелось, зато существовали многочисленные школы, в которых можно было попробовать на зуб любой вид гранита науки. Более того, именно тяга к знаниям заставила выйти Париж за пределы острова Сите, когда на неподвластной парижскому епископу территории Левого берега, Рив Гош (ставшей впоследствии на несколько сотен лет мировой студенческой Меккой), Гильом де Шампо, разгромленный на диспуте знаменитым средневековым бунтовщиком Пьером Абеляром, основал новую школу. Спустя всего несколько десятилетий школ уже было много, они заполнили и мост, связывающий Рив Гош с Сите, а на их «клиентов» работала целая инфраструктура. Одни сдавали студиозусам жилье, другие предоставляли стол, третьи торговали пергаменом, свечами, лампадным маслом — словом, полгорода кормилось за счет ученого сообщества. Сами же парижские школяры считались людьми церкви — и находились под ее опекой, в отличие от своих болонских коллег, вынужденных самостоятельно заботиться о собственной безопасности. Остальные парижане считали школяров настоящими сорвиголовами, а для короля Филиппа II они стали образцом смелости — и примером для рыцарства.
«Вы вооружены и защищены доспехами, — пенял король своим шевалье, — но опасаетесь вступить в бой, а школяры смело лезут в драку, вооруженные лишь ножом и защищенные одной только тонзурой». Но это и была самая прочная защита. Она обеспечивала привилегированный статус — и позволяла чувствовать себя безнаказанными. Безнаказанность сохранилась даже после отмены церковной защиты в начале 1200 года. Более того — именно из этой безнаказанности и родился Парижский университет, будущая Сорбонна.
Сорбонна началась со скандала и поножовщины. В январе 1200 года архидьякон из Льежа, приехавший в Париж учиться, послал своего слугу за вином. Вино оказалось кислым и дорогим, из-за чего слуга поругался с кабатчиком, а сам студиозус вместе со своими друзьями учинил в его заведении разгром. В ответ кабатчик и другие горожане разгромили дом, где квартировала веселая компания, — и льежский архидьякон сложил в этой драке свою буйную обритую голову. Были и другие жертвы. В конфликт вмешался сам король — и к июню издал ордонанс, запрещающий парижанам бить школяров под страхом немедленной передачи в руки королевского правосудия. Кажется, после этого желающих учиться прибавилось.
За следующий десяток лет парижская корпорация студентов и преподавателей обзавелась всем, что должно быть в уважающем себя университете. Магистры (преподающие выпускники) и студенты выделились из массы духовенства, сформировалась система лекций и экзаменов, в 1209 году документы впервые зафиксировали название Universitas Magistrorum («гильдия магистров»), в 1211-м на торговле документами об образовании попался канцлер парижского епископа, заведовавший их выдачей, — и в 1213-м корпорация получила право самостоятельно присваивать ученые степени. А в 1231 году «сорбоннская свобода» была окончательно закреплена папской буллой, известной под неофициальным названием «Великая хартия вольностей университета». Старт был дан.
За XIII столетие на европейской карте обозначилась целая плеяда университетов: в Саламанке, Монпелье, Падуе, Неаполе, Тулузе… В Европе того времени появилось немало желающих учиться — и многие посвятили этому занятию всю жизнь, не преследуя никакой конкретной прикладной цели. По дорогам, выстроенных еще римскими колонизаторами, кочевали студенты, непрерывно повышающие свою образованность и ищущие самых лучших преподавателей.
Они известны под названием вагантов — бродячих студентов, прославившихся не столько своими учеными заслугами, сколько веселыми песнями, бичующими римскую курию, прославляющими свободу, вино и влюбленность. Но первыми вагантами были не собственно студенты, а бродячие клирики, священники, не получившие приходов. Впрочем, вскоре веселая студенческая братия стала основной составляющей в пестрой толпе вагантов.
Университетские стены стирают разницу. Принадлежность к ученой корпорации сводит на нет такой, казалось бы, неотменимый для средневекового общества фактор, как происхождение. Уйти в студенты — значило уйти от социальной судьбы. Неудивительно, что многие предпочитали этот путь.
Ученый в Средние века вызывает уважение — но не потому, что сам сделал свою судьбу, как говорят англичане, и даже не потому, что по роду своих занятий кажется будто приближенным к Богу, — а из-за самой сути своих занятий. Интеллектуалы, по мнению ряда авторов средневековых письменных памятников, — это те, кто занят непрерывным поиском места в мире для всех и каждого.
Сегодня все чаще можно услышать: определение места человечества в мире — насущная задача современной цивилизации. Это именно то, чему следует посвящать академические часы в университетах, время в научных лабораториях и кабинетах ученых-гуманитариев. Это именно та задача, решая которую человечество максимально приблизится к познанию тайн Вселенной. Похоже, в путешествии по исторической спирали нам еще предстоит возвращение на те позиции, что были разведаны в Средневековье. Но для этого образованию придется обрести совершенно новый статус.
Вера СЕНКЕВИЧ, Михаил ГЕРШТЕЙН